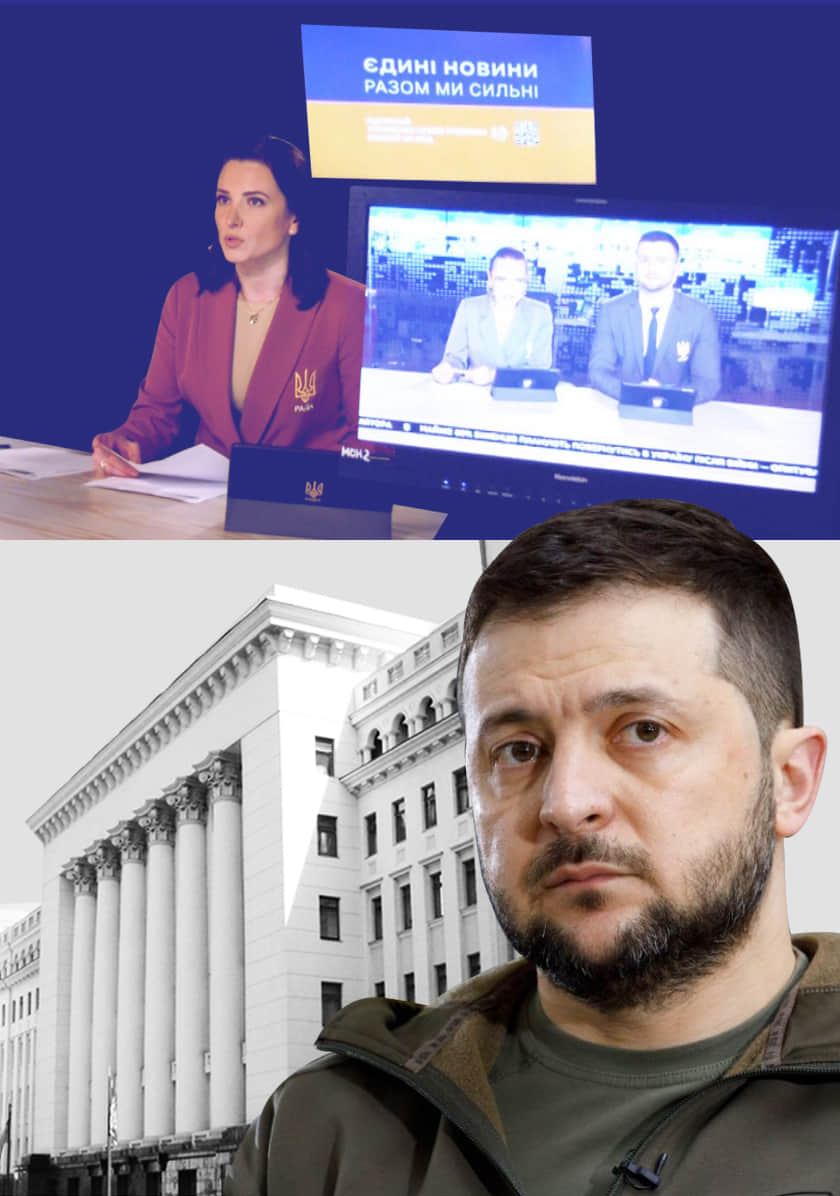Предельно нежный выход из запоя
Я возвращался домой с Минского базара на Оболони, когда возле меня начала тихо оседать на асфальт старушка, как и я груженная кулечками с базарной снедью. Я машинально ухватил ее под руку. Столько весит маленькое сухое деревце? Я даже не знаю, сколько их одними руками переломал на шашлыках у знакомых на даче, пока мы не поссорились из-за какого-то пустяка.
Старушка не могла говорить, и молча как шарф висела у меня на руке. Но сопротивлялась, когда я пытался перехватить в другую руку ее кулечки.
"Мне повезло, что возле меня оказались вы, добрый человек", чересчур ровно и, словно бы уже из другого мира, сказала она. Она сильно ошиблась. Я вовсе не был добрым человеком.
Пока я работал в Киеве, моя больная мама умерла во Львове на руках у соседки, которую не очень любила. Когда стало ясно, что счет ее пошел на месяцы, я приезжал к ней практически каждое воскресенье, слал деньги и звонил.
Но с работы так и не рассчитался, чтобы побыть с ней как следует на прощанье. В глубине души я все еще на что-то надеялся. Мама была сибирячка с отменным здоровьем, но потом как-то сразу и быстро начала сдавать. Никакие врачи не помогали.
В свои 70 с лишним лет она уже могла позволить себе думать, что смерть – это хороший выход из плохой ситуации. Она имела на это право.
А для меня теперь выходом казалась никому не нужная на оживленной улице незнакомая старушка.
Она попросила отвести ее на лавку, чтобы можно было сесть и принять лекарство. Раньше мне казалось, что на этой улице, по которой я хожу каждый день, лавки у каждого подъезда. Но мы с ней протащились два дома, прежде чем нашли, где ее усадить.
Она долго не могла найти в сумочке валидол. А потом приняла еще и валокордин. "Дети на работе, и я решила приготовить им покушать, но набрала слишком много", виновато улыбнулась она. Придут и снова будут меня ругать. В 83 года она еще хорошо слышала и говорила отчетливо. И не боялась умереть на улице.
Я протащил ее до подъезда, потом уговорил провести до квартиры. Она жила в соседнем доме, но раньше я ее не встречал.
У дверей она начала прощаться, явно не желая доставать при мне ключи. Я понял, что она боится, что я убью ее или ограблю. На прощанье она быстро склонилась и неожиданно поцеловала мои руки в потных перчатках, в которых я бегаю на зарядку.
Она не видела, что, спускаясь по лестнице, я плакал. Мне было стыдно, что я ощупывал свой кошелек, когда она опиралась на меня. Мы, два, может быть, и неплохих человека, уже не верили никому и ни во что.
За это лето в подъезде, где я живу, случилось четверо похорон. Я не удивился, когда умерла очень древняя баба Нюра, молча и, словно бы уже из рая, насмешливо щурившаяся на 50-летнюю молодежь. Но потом умерли два еще нестарых мужчины 40 и 50 лет.
Я знал их плохо. Но мы были с ними из одного поколения. И мне стало не по себе. И были еще одни похороны, я уже не помню кого. Это – только то, что я застал, проходя с работы и на работу.
После этого лета я стал внимательнее присматриваться к соседям по подъезду, с которыми раньше просто здоровался. И впервые задумался, как живется одинокому и слепому Ивану Максимовичу с седьмого этажа.
Ослеп он недавно. Катаракта на оба глаза. И теперь он собирает деньги на операцию. У него уже было несколько операций, и он начинал видеть. Но оперируют его плохо и глаза зарастают опять. И операция подорожала.
Раньше я молча проскакивал мимо него. Или он просто не попадался мне на глаза. Понадобилась целая вереница похорон, чтобы в мою голову пришла простая мысль: как Ивану Максимовичу живется одному, кто ходит ему за покупками, готовит кушать и убирает в квартире, как, наконец, он считает пенсию, когда ему ее приносят домой?
Однажды я поинтересовался у всезнающей консьержки, кто ухаживает за ним. Оказалось, что в свои 70 лет Максимыч – завидный жених. У него очень большая пенсия, и женщины уже не раз предлагали ему сварить борщ и ухаживать за ним. Но он забраковал борщ. И предпочел жить один. Консьержка злилась и, наверное, рассказывала о себе.
С тех пор, когда я вижу Ивана Максимовича, шествующего в магазин, я предлагаю ему провести его. Он охотно соглашается. У дверей магазина мы обычно расстаемся. Дальше я уже знаю, как идти, говорит он.
Пустой кулек служит ему палкой, и он машет им во все стороны, нащупывая забор, по которому, как по тропинке пробирается к ежедневной буханке хлеба. Похоже, что он экономит и на палке, которой обычно пользуются слепые. И я вспоминаю ворчанье консьержки о жадности и тяжелом характере Ивана Максимовича.
Он упорно ходит за продуктами сам и отказывается от помощи по хозяйству. Но позволяет брать себя за руку, если мы случайно встречаемся на улице. Иногда на нем ботинки разного цвета.
Я не навязываюсь ему. У меня уже есть свой "английский пациент". Полковник СБУ в отставке с пятого этажа. Обычно он гладко выбрит и хорошо выглядит. Так он выглядел и тогда, когда мы познакомились.
Моя дочь тогда поступила в университет. Если радоваться этому всю ночь даже не с самым дешевым пойлом, с утра от тебя все равно разит сивухой. Запах победы над украинским высшим образованием плохо гармонировал с ароматом сирени, которым вышел подышать с утра полковник.
Он смерил меня пренебрежительным взглядом и попросил отойти, а я, недолго думая, его послал. Так мы и познакомились, но подружились только через два года. До сих пор не знаю чем, но я ему нравлюсь.
Но перед тем как первый раз пригласить меня к себе домой, он пробивал меня по какой-то своей базе. Нисколько не стесняясь, он сам позвонил мне и попросил продиктовать свою фамилию, имя и год рождения. Я же должен знать, кого к себе приглашаю, объяснил он.
Иногда полковник не выходит из квартиры неделями. И однажды в окне я мельком увидел его опухшее небритое лицо с совершенно диким выражением глаз. Я вспомнил тот день, когда мы познакомились, и понял, что мы часто обвиняем других в том, в чем сильно виноваты сами.
В такие дни полковник иногда звонит мне и отстраненным голосом просит принести воды и поесть. Когда я захожу в его прокуренную квартиру и отдаю ему продукты и воду, он отводит от меня свои по детски чистые детские глаза, и я тихо благодарю Бога за то, что не пошел работать в СБУ.
Еще не старый полковник в минуты слабости жалуется, что у него нет сил. И просит взять над ним шефство. Но когда я прихожу к нему с Библией, оказывается, что он уже забыл об этом.
Вообще-то он живет не здесь, а у своей женщины. Но она за Юлю, а он – за Ющенко. Поэтому они разъехались. Теперь он уже тоже за Юлю. Но живет по-прежнему один. Она изредка навещает его.
Глядя на полковника, я вижу таким себя лет через десять. Заслуженно одинокого, аккуратного на людях и дико небритого дома.
Я ношу ему фляги с водой, надеясь, что какой-нибудь дурачок принесет их в свое время и мне. Хитрый, умеющий использовать людей полковник, считает меня слабаком. И всегда напоминает мне об этом, когда напьется. Мне жаль его.
Наверное, мы оба слабаки. Я не могу помочь ему бросить пить. Но я могу носить ему чистую воду и молиться за него. Хотя вот об этом он меня как раз и не просит. Ему интересно поговорить со мной о политике. И я разговариваю с ним о политике, хоть я и ненавижу ее.
Украинские политики настолько обнаглели, что присвоили себе все идеалы добра, которые им никогда не принадлежали. Нахапав, как следует добра материального, они планомерно приступили к добру трансцендентальному. И рассуждают на митингах с людьми о правде и справедливости. Но сами то и дело лгут и предают друг друга.
Где же украинские писатели, поэты и художники, которые сказали бы украинскому народу горькую правду о его политиках и о нем самом? Да вот же они! Хлещут с властью самогонку в садке вишневом коло хаты. Высокохудожественно пиарят олигархов.
Поховайте и вставайте уже чудо как хорошо написано до них. Современные писатели сами охотно идут в политику. Это помогает достойно сгинуть их творчеству. Вот почему в Украине нет писателей.
Зато их дети становятся дипломатами. Украинские посольства – это пышные генеалогические деревья украинской элиты и по совместительству совести нации. Украинской совести неуютно дома, и она все время рвется спасать Украину из-за рубежа.
Я не знаю, откуда силы у слепого Ивана Максимовича, который одинок так же, как я и полковник. Я даже не знаю, верит ли он в Бога.
Мы никогда не говорим с ним об этом. Откуда у него столько сил, чтоб жить в темноте? Их часто не хватает у меня, верующего, и, я в бреду или нет, но общаюсь с животворными небесами. Чтобы подняться к ним, я то и дело становлюсь на колени.
А Иван Максимович всегда идет прямо, его армейская выправка бывшего замполита видна даже сквозь старую раздутую ветром рубашку. Небритое лицо непобедимого римлянина, распявшего Христа, безмятежно-сосредоточенно устремлено вдаль.
Завтра ужасает зрячих. Но не страшит слепых.
Как Дон Кихот копьем, Максимыч азартно лупит по забору пустым целлофановым мешком, шествуя в магазин. С кем он воюет и кого каждый день побеждает на этих 100 метрах до белых стеклопакетных дверей? Я стесняюсь спросить его об этом.
Полковнику, похоже, это просто пофиг. Он и так меценат. Издает какой-то журнал и помогает детям. У меня нет денег на журнал. И мне остается только подхватывать невесть откуда падающих на меня старушек. И я молю Бога, чтоб кто-то точно так же подхватил мою маму. Хотя она уже умерла.
Иван Максимович, безостановочный, как кремлевские куранты, с непреодолимой текучестью ртути снова и снова устремляется в магазин за хлебом, когда мы с полковником стонем и взываем о помощи по утрам. Полковник просит меня. А я – Бога.
Что такого знает Иван Максимович, чего не знаем мы с полковником? Два еще не старых и, в общем-то, много чего повидавших мужчины.
Почему Максимычу не нужен никто? Наверное, ему не нужен даже Бог. И вот этого я уже совсем не понимаю. Когда-нибудь, взяв под руку, я спрошу его об этом.
Надо только побороть в себе стыд. Ложное и неправильное представление о том, что есть сила. И успеть спросить его, пока он жив.
И тогда, возможно, и я, наконец, прозрею. Увижу мир глазами слепого. Мне это надо вдвойне. Ведь мне, скорее всего, придется тащить на себе еще и полковника, слушая, какой я слабак.
 |
Михаил Мищишин, специально для УП